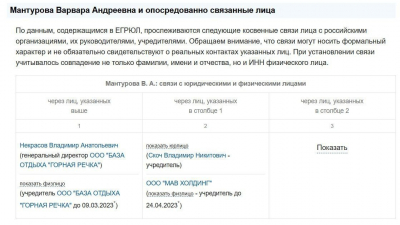Загадка рождения грозной пехоты: когда и зачем Иван IV создал стрельцов?
В поисках утраченной даты: следствие ведут летописи и грамоты
Судьба распорядилась так, что подлинный государев «приговор» об учреждении стрелецкого войска – документ, положивший начало первой русской регулярной пехоте, – до нас не дошёл. Этот важный акт словно растворился во времени, оставив историкам лишь разрозненные свидетельства и непростую задачу: по крупицам восстановить картину его появления. Первоначальные датировки были весьма расплывчаты, указывая на широкий промежуток между 1545 и 1551 годами. Однако более пристальное изучение летописей и служебных записей позволяет значительно сузить эти хронологические рамки.
Первый надёжный временной ориентир дают летописные своды. В описаниях подготовки к третьему, решающему походу на Казанское ханство в 1551–1552 годах, в составе русского войска впервые чётко упоминаются стрельцы как участники военных действий. Один из московских книжников, работавший, по всей видимости, с официальными документами Разрядного приказа, скрупулёзно занёс в «Летописец начала царства» важное известие: «Из Новагорода из Нижнего велел государь идти изгоном на Казанской посад князю Петру Серебряному, а с ним дети бояръские и стрельцы и казаки…». Эта военная экспедиция состоялась в мае 1551 года. Это событие устанавливает неоспоримую верхнюю хронологическую границу (terminus ante quem): к весне 1551 года стрельцы уже существовали как организованная и боеспособная сила. Достоверность этого летописного сообщения, опирающегося на официальные данные, не вызывает сомнений.
Для определения нижней границы (terminus post quem) ценным источником служит грамота царя Бориса Годунова, датированная 1598 годом. В ней он отвечает новгородскому воеводе князю Ногтеву по поводу челобитной отставных ладожских стрельцов. Ветераны, состарившиеся и искалеченные на службе, просили милости «за худобу и за старость и за увечье». Годунов, излагая суть их просьбы, приводит слова самих стрельцов: «служили деи они наши всякие службы лет по двадцати и по тридцати, а иные по сороку и по пятидесяти болши…». Упоминание службы длительностью в полвека «и больше», отсчитанное назад от 1598 года, указывает на конец 1540-х годов как на возможное время начала их службы. Следовательно, дату учреждения стрелецкого войска следует искать в интервале между концом 1540-х и весной 1551 года. Поле поисков заметно сузилось.
Можно ли продвинуться дальше и сузить этот временной коридор? Здесь на помощь приходит специфический вид источников – разрядные книги. Эти уникальные памятники московской приказной системы, по сути, представляли собой официальные журналы учёта назначений на военные и административные должности, а также росписи войск по полкам и походам. Хотя многие первоначальные разрядные книги («подлинники») были утрачены, в том числе, вероятно, и при отмене местничества в 1682 году, сохранившиеся копии и выписки («перечни») содержат бесценную информацию. Так вот, в разрядных записях, посвящённых второму Казанскому походу царя Ивана IV, предпринятому суровой зимой 1549–1550 годов, содержится весьма показательная деталь. При описании штурма Казани 18 февраля 1550 года («во вторник на Федоровой недели») отмечено, что государь для приступа собирал «у бояр и воевод и у детей боярских пеших людей в доспесех…». В этом списке стрельцы отсутствуют. Для штурмовых колонн пришлось собирать пеших ратников из вооружённой свиты знати и служилых дворян. Это умолчание трудно считать случайным, особенно если сравнить его с записями о триумфальном третьем Казанском походе 1552 года. В описаниях этой кампании стрельцы фигурируют постоянно, причём как одна из главных ударных сил, решавших исход боёв под стенами вражеской столицы. Их очевидное отсутствие зимой 1550-го – сильный аргумент в пользу того, что как организованная сила они появились именно в промежутке между февралём 1550-го и маем 1551-го. Временные рамки сжимаются до чуть более года!
Именно в этот критически важный промежуток удачно вписывается ещё одно свидетельство, возможно, ключевое. Хотя сам оригинальный указ об учреждении стрельцов утерян, его краткое, но информативное изложение сохранилось в одной из поздних редакций так называемого Русского хронографа 1512 года. Под 7058 годом от сотворения мира (что соответствует периоду с 1 сентября 1549 по 31 августа 1550 года) в этом источнике содержится следующая запись: «Того же лета учинил у себя царь и великий князь Иван Васильевич всея Русии выборных стрелцов нс пищалей 3000 человек, а велел им жити в Воробьевской слободе…». Далее следует перечисление первых шести стрелецких голов, назначенных командовать этим новым войском, все они – из детей боярских: Гриша Желобов сын Пушешников, Дьяк Ржевской, Иван Семёнов сын Черемисинов, Васка Фуников сын Прончищев, Фёдор Иванов сын Дурасов, Яков Степанов сын Бундов. Указывается и численность их отрядов – по 500 человек у каждого, и даже размер годового денежного жалованья – четыре рубля. Точное попадание этой записи в определённый ранее годовой интервал (февраль 1550 – май 1551) значительно повышает её достоверность и позволяет считать 7058 год (1549/1550) наиболее вероятным годом формального учреждения стрелецкого корпуса.
Отборные воины царя: статус и происхождение первых стрельцов
«Выборные» – именно так именует первых стрельцов летописец. В контексте XVI века это слово несло в себе оттенок элитарности, указывало на особый отбор лучших людей для выполнения важной государственной задачи. Из кого же набирали этих «выборных»? Вероятнее всего, основой для формирования первых стрелецких полков послужили пищальники – воины, уже владевшие навыками обращения с огнестрельным оружием, ручными пищалями. Скорее всего, отбор производился из числа так называемых «казённых» пищальников. В отличие от «зборных» (или «посошных») пищальников, которых набирали время от времени по разнарядке из посадского и сельского населения для конкретного похода или осадных работ, «казённые» пищальники несли службу на более постоянной основе, получали содержание («жалованье» и «корм») из казны и составляли гарнизоны крепостей или специальные отряды. Именно эти, уже в какой-то степени профессиональные, кадры и стали ядром нового стрелецкого войска.
Однако создание стрельцов было не просто реорганизацией или переименованием существующих отрядов. Это был шаг к формированию принципиально нового типа военнослужащих, наделённых особым статусом. Об этом красноречиво свидетельствует сама терминология источников. В разрядных книгах, описывающих взятие Казани, стрельцы неизменно именуются «стрелцы великого князя». Эта прямая привязка к личности монарха, подчёркивание их принадлежности к государеву двору выделяли стрельцов из общей массы вооружённых сил. Пищальники, храбро сражавшиеся рядом с ними, такой почётной привязки не удостаиваются. За этим, казалось бы, незначительным различием в формулировках стояла реальность: стрельцы позиционировались как особая, привилегированная часть войска, находящаяся под непосредственным покровительством и контролем царя. Они становились его личной пехотой.
Первоначальная численность стрельцов – 3000 человек – была весьма значительной для того времени и свидетельствовала о серьёзности намерений правительства. Это была уже не горстка телохранителей, а полноценный войсковой корпус. Характерно и место их расселения – Воробьёвская слобода под Москвой. Близость к столице и Кремлю обеспечивала быструю мобилизацию стрельцов по приказу царя и облегчала контроль над ними. Организация жизни в слободе, вероятно, носила полувоенный характер, способствуя сплочённости и поддержанию дисциплины.
Не менее показателен и подбор командного состава. Все шесть первых стрелецких голов – командиров полков или приказов по 500 человек – были назначены из числа детей боярских. Сопоставление списков голов с данными Тысячной книги 1550 года и Дворовой тетради 1550-х годов показывает, что эти люди принадлежали к элите служилого сословия, входили в состав Государева двора. Четверо из шести первых голов (Пушешников, Ржевской, Черемисинов, Прончищев) значатся в Тысячной книге среди «лучших слуг», а двое оставшихся (Дурасов и Бундов) – в Дворовой тетради. Это недвусмысленно свидетельствует о том, что командование новым элитным войском было доверено людям, уже доказавшим свою преданность и принадлежавшим к ближайшему окружению царя. Руководство сотнями также поручалось детям боярским. Таким образом, создавалась чёткая иерархия, замыкавшаяся на государе.
Наконец, установление постоянного денежного жалованья (четыре рубля в год), пусть и скромного по современным меркам, но дополнявшегося, вероятно, натуральным обеспечением («хлебным жалованьем» или «кормом»), а возможно, и земельными наделами в стрелецких слободах, окончательно закрепляло статус стрельцов как профессиональных военнослужащих на постоянной государственной службе. Это принципиально отличало их от временно созываемых пищальников из тяглого населения. Стрелец становился членом особой военно-служилой корпорации со своими правами, обязанностями и образом жизни. Набирали в стрельцы, судя по всему, «вольных» людей, то есть лично свободных, не принадлежавших к крепостным или холопам, что также подчёркивало их особый статус. Государство обеспечивало их не только жалованьем, но и вооружением (пищалями, бердышами, саблями) и, со временем, единообразной одеждой (хотя вопрос о введении единой формы именно в 1550 году остаётся дискуссионным).
Царская гвардия Ивана Грозного: политические мотивы создания стрельцов
Почему же именно в середине XVI века, на заре своего самостоятельного правления, молодой и энергичный царь Иван IV решился на создание этого нового войска? Военные соображения, связанные с необходимостью усиления пехоты, особенно в контексте предстоящей борьбы за Казань и освоения «дикого поля», безусловно, играли свою роль. Однако не менее, а возможно, и более важными были мотивы политического характера. Московское государство переживало сложный период централизации, преодоления пережитков феодальной раздробленности и самоуправства боярских кланов, хозяйничавших в стране в годы малолетства Ивана. Молодому царю, стремившемуся утвердить свою самодержавную власть, жизненно необходима была надёжная военная опора, преданная лично ему и не связанная с интересами старой аристократии.
В этом контексте создание стрелецкого войска выглядит не как изолированная мера, а как часть более широкого комплекса реформ середины XVI века, направленных на укрепление государства и личной власти монарха. Усматривается тесная связь между учреждением трёхтысячного корпуса «выборных» стрельцов и почти одновременным формированием так называемой «избранной тысячи». Эта «тысяча» представляла собой специально отобранный контингент из «лучших слуг» – представителей провинциального дворянства (детей боярских), зачисленных в состав Государева двора и получивших поместья в непосредственной близости от Москвы. Целью этой реформы было создание ядра поместного ополчения, лично преданного царю и не зависящего от крупной боярской знати.
Стрелецкое войско идеально дополняло «избранную тысячу». Если «тысячники» составляли элиту конницы, то стрельцы становились элитой пехоты, причём пехоты постоянной, профессиональной, находящейся на полном государственном обеспечении. Вместе эти два новых формирования – конное и пешее – должны были составить своего рода личную гвардию Ивана IV, надёжный инструмент его власти, способный как противостоять внешним врагам, так и подавлять внутреннюю оппозицию или возможные волнения. Назначение на командные должности в стрелецкие приказы представителей той же служилой элиты, что и в «избранной тысяче», людей из Государева двора, ещё больше укрепляло эту связь и подчёркивало особое положение стрельцов в военной иерархии.
В предшествующий период боярского правления служба и карьера часто зависели от происхождения и принадлежности к тому или иному аристократическому клану. Иван IV, создавая «избранную тысячу» и «выборных» стрельцов, ломал эту систему. Он формировал новую служилую элиту, обязанную своим возвышением и благосостоянием лично ему. Статус «стрельца великого князя» был не просто почётным званием, он давал определённые привилегии, стабильное жалованье, защиту со стороны государства. Взамен требовалась абсолютная лояльность и готовность выполнить любой приказ царя. Стрелецкое войско становилось важным элементом складывавшегося в России «служилого государства», где положение человека всё больше определялось его местом в иерархии государственной службы. Таким образом, политические мотивы – стремление укрепить самодержавную власть, создать противовес боярской аристократии и обзавестись надёжной военной опорой – сыграли ключевую роль в решении об учреждении стрелецкого войска.
Византийское наследие и военная (не)эффективность: разбирая причины
Были ли у Ивана IV и его советников иные побудительные мотивы, возможно, менее очевидные? В реформах середины XVI века можно усмотреть возможное влияние византийского опыта военного строительства. Эта гипотеза обретает определённый вес, если учесть общую идеологическую атмосферу того времени, проникнутую идеями преемственности Москвы от Византии («Третий Рим»), а также «книжность» самого царя и влияние таких фигур, как митрополит Макарий. Знакомство с византийской историей и её военной организацией в московских правящих кругах несомненно имело место, учитывая давние церковные и культурные связи.
Византийская военная система в период своего расцвета действительно представляла собой сложное сочетание постоянных, профессиональных элитных полков (тагматы), базировавшихся в столице и её окрестностях, и провинциальных ополчений (фемные войска), формировавшихся на территориальной основе. Можно провести определённую аналогию между столичными «выборными» стрельцами и византийскими тагматами, а между «зборными» пищальниками и фемными ополчениями. Разумеется, говорить о прямом копировании византийских институтов было бы преувеличением. Русские реалии XVI века существенно отличались от византийских. Однако сама идея создания элитного, постоянного пешего войска по образцу прославленной империи могла служить дополнительным стимулом и идеологическим обоснованием для реформы, особенно в контексте утверждения царского титула и имперских амбиций Москвы. Это стремление соответствовать высокому византийскому образцу могло играть свою роль наряду с прагматическими политическими и военными соображениями.
Гораздо чаще, однако, в исторической литературе в качестве главной причины создания стрельцов называется предполагаемая низкая боеспособность и общая неэффективность их предшественников – пищальников. Согласно этой точке зрения, Иван IV и его окружение осознали, что для решения новых военных задач, особенно для ведения осадной войны и противостояния регулярным армиям соседей, необходима более дисциплинированная, обученная и однородно вооружённая пехота, чем разношёрстные отряды пищальников. Этот аргумент кажется логичным, особенно в свете так называемой «огнестрельной революции», постепенно менявшей характер военного дела в Европе и России. Однако тезис о полной негодности пищальников к середине XVI века требует серьёзной корректировки.
Во-первых, само решение о создании первоначально относительно небольшого корпуса стрельцов (всего 3000 человек) плохо согласуется с идеей о полной неэффективности пищальников, которых потенциально можно было мобилизовать в гораздо больших количествах. Если бы пищальники были совершенно бесполезны, логичнее было бы ожидать более масштабной и радикальной реформы всей пехоты.
Во-вторых, анализ боевых действий 1550-х годов, в том числе и знаменитой Казанской кампании, показывает, что стрельцы и пищальники (как «казённые», так и «зборные») зачастую действовали на поле боя совместно, в рамках одних и тех же тактических построений. Русское командование активно использовало и тех, и других, находя каждому роду войск своё место и применение. Это свидетельствует о том, что боевые качества пищальников, по крайней мере, на тот момент, оценивались как вполне достаточные для решения определённых задач, особенно в обороне или при поддержке конницы огнём.
В-третьих, не следует представлять всех пищальников, особенно «зборных», как совершенно необученных ополченцев. Система набора «по прибору» с определённых городских и сельских общин зачастую приводила к тому, что на службу из года в год призывались одни и те же люди, имевшие опыт обращения с оружием и участия в походах. Это способствовало накоплению определённых навыков и формированию некоторой сплочённости внутри отрядов. Конечно, уровень их подготовки и дисциплины уступал стрельцам, но считать их совершенно бесполезным балластом было бы неверно.
Скорее всего, решение о создании стрельцов было продиктовано не столько сиюминутной неэффективностью пищальников, сколько стратегическим видением будущего. Царь и его советники смотрели вперёд, понимая необходимость постепенного перехода к более регулярным и профессиональным формам организации войска. Стрельцы должны были стать ядром этой новой армии, образцом для подражания и кадровым резервом для дальнейшего развёртывания огнестрельной пехоты.
Процесс реального вытеснения пищальников стрельцами растянулся на десятилетия и стал особенно заметен во второй половине XVI века, когда по всей стране начали создаваться «городовые» стрелецкие полки и сотни, бравшие на себя гарнизонную службу и постепенно заменявшие «зборных» пищальников. Это было связано как с ростом военных потребностей государства, так и с общей политикой всё более чёткого разделения населения на служилые и тяглые сословия. Учреждение постоянных стрелецких гарнизонов соответствовало этой тенденции к профессионализации и упорядочению государственной службы. Однако это не означало полного отказа от старых форм комплектования: в случае необходимости государство продолжало прибегать к набору «посошных» людей и даже зачислять («верстать») в стрельцы и казаки выходцев из тяглых сословий, особенно на неспокойных окраинах.
Таким образом, подводя итог, можно сказать, что учреждение стрелецкого войска в 1550 году было сложным и многогранным явлением. Чисто военные мотивы, связанные со стремлением повысить боеспособность пехоты, несомненно, присутствовали, но, вероятно, не были единственными и даже главными. Ключевую роль сыграли политические амбиции молодого царя, его желание укрепить личную власть и создать надёжную опору в лице преданной гвардии. Идеологические соображения, связанные с ориентацией на византийское наследие, могли служить дополнительным стимулом. Создание стрельцов стало важным шагом на пути военной модернизации и строительства централизованного «служилого государства» в России, хотя плоды этой реформы в полной мере проявились уже в последующие десятилетия. Длительное сосуществование стрельцов и пищальников также показывает, что военные реформы Ивана IV носили скорее эволюционный, чем революционный характер, и учитывали как стратегические цели, так и экономические возможности страны, для которой содержание большой профессиональной армии было весьма обременительным делом.